«Дайте нам развиться до большой победы»
- 12.02.2025
Студент 4 курса физфака НГУ Никита Шаров твердо решил заниматься физикой плазмы и проблемами управляемого термоядерного синтеза (УТС) еще в 7 классе. Детская мечта, сформировавшаяся под впечатлением от посещения Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), стала реальностью – сегодня молодой человек работает в плазменной лаборатории ИЯФ, где занимается созданием программы моделирования процессов подпитки плазмы газом в открытых магнитных ловушках. Никита рассказал, кто привил ему интерес к научной деятельности, почему ФМШата вылетают после первого курса физфака НГУ, и через сколько лет скептики перестанут смеяться над термоядерной энергетикой.
– Никита, расскажи, пожалуйста, когда ты почувствовал тягу к науке?
– Насколько я помню, в науку меня тянуло с самого детства. Началось все с типичного для детей интереса к динозаврам – мне хотелось стать палеонтологом. Потом были и другие исследовательские направления, которые мне казались привлекательными, но где-то в седьмом классе я уже точно определился, что буду физиком. Это было связано во многом, кстати, с тем, что наш класс водили на экскурсию в ИЯФ СО РАН. Тогда я впервые увидел ВЭППы (установки на встречных электрон-позитронных пучках ВЭПП-2000 и ВЭПП-4М ИЯФ СО РАН), магнитные ловушки. В общем, все это меня очень впечатлило, я понял, что нужно становиться физиком, и обязательно плазмистом. Магнитные ловушки мне очень понравились – вот стоит бочка, и в ней варится термоядерная плазма, это же просто супер.
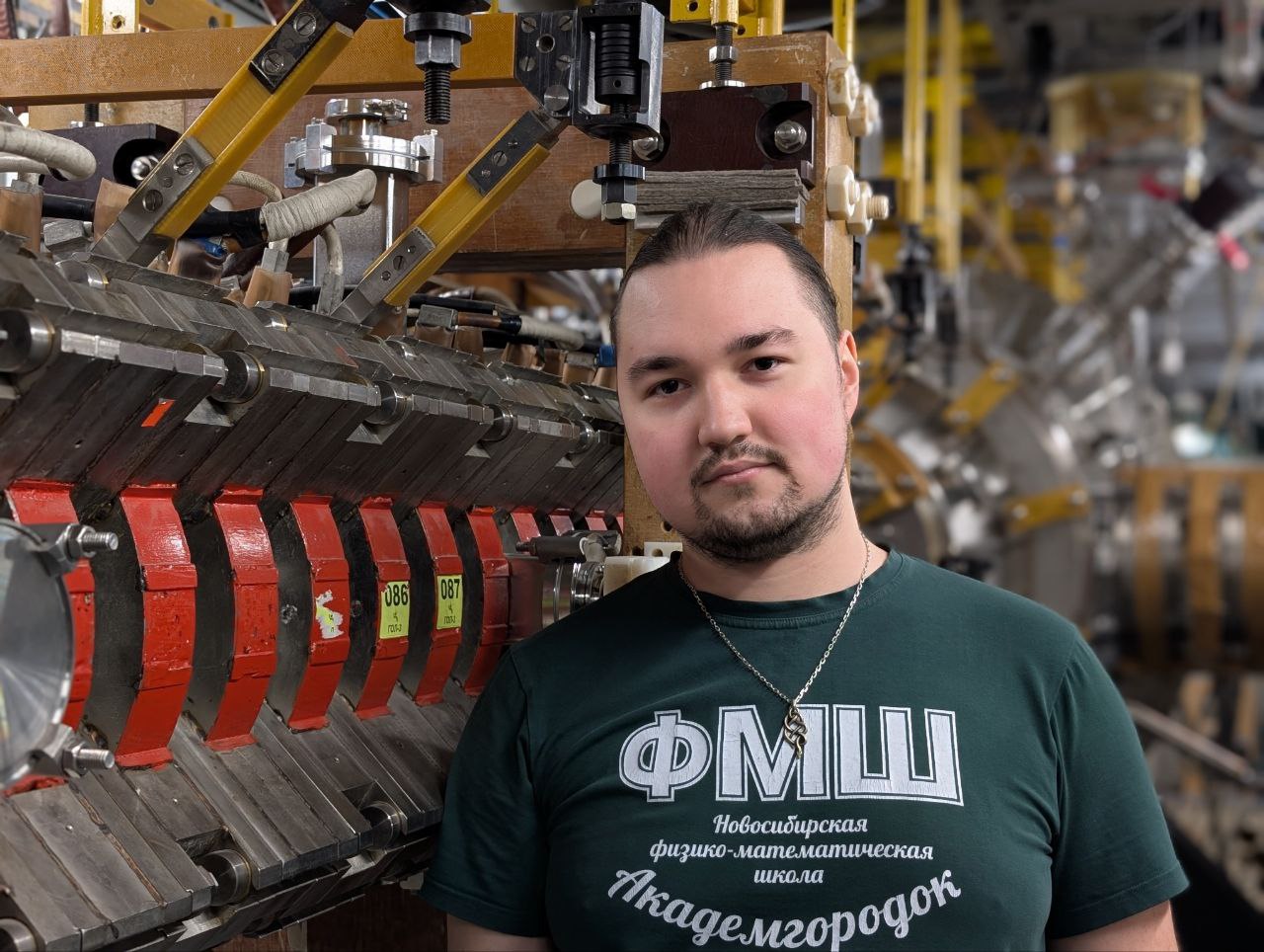
Лаборант ИЯФ СО РАН Никита Шаров. Фото Т. Морозовой.
– Определиться с научными интересами в 7 класс – звучит круто. Тогда ты и в ФМШ решил поступать? Родители поддержали?
– Мой папа учился в ФМШ в 80-х г., так что представление имел, а мама, как и любая мама, переживала, что шестнадцатилетний сын уедет из дома. Хотя сам я из Новосибирска, из Железнодорожного района – не так и далеко.
Это были невероятно счастливые годы. Именно благодаря учебе в ФМШ я был отлично подготовлен к поступлению и учебе в университете.
– Я слышала, что первокурсникам не из ФМШ тяжело адаптироваться к обучению в НГУ. Как ты думаешь, с чем это связано? Насколько образовательные программы разные?
– Отличие в том, что в учебную программу ФМШ встроены вполне себе вузовские материалы. Например, на математике на более высоком, чем в обычной школе, уровне дают основы математического анализа. Это позволяет уже в 10-11 классе СУНЦа более глубоко и системно переходить к некоторым вопросам из физики. Банальный пример: не зная интегралов производных некоторые формулы в физике просто не получится вывести. В школе, где такой материал не дают, детям просто преподносят формулы, как данность, потому что объяснить, откуда они взялись без этой более углубленной математики, не получится. Вот в ФМШ такой системности больше.
Но, кстати, надо понимать, что есть и обратная сторона медали. Тем, кто учился в ФМШ, первый курс на физфаке дается так легко, что они потом просто перестают учиться и, как результат, вылетают.
Еще один момент, который, как мне кажется, важен – в ФМШ тебя учат сотрудники Сибирского отделения РАН, реальные ученые, которые могут дать тебе не только материал, но и рассказать что-то про настоящую науку. Многих это вдохновляет. И в этом, наверное, и есть та преемственность поколений, о которой говорили, и на которую опирались основатели новосибирского Академгородка.
– А как ты справился с первым курсом на ФФ НГУ?
– Мне удалось избежать той ситуации, когда кажется, что все легко, и я не расслабился. Вообще, к образованию у меня всегда было в некотором смысле потребительское отношение – я смотрел на него как на средство достижения цели. Если я хочу заниматься наукой, придется получать образование.
Конечно, великие умы как-то справлялись без университетов – у Фарадея, по-моему, не было университетского образования, он ставил эксперименты в своем фургончике на чистом энтузиазме. Но таких людей в истории по пальцам двух рук можно посчитать, а если подходить системно, то придется в университете поучиться. Я не могу сказать, что мне не нравится учиться, нет, мне многое нравится, но есть, что и не нравится. Все, как в жизни.
– Есть ли у тебя любимые предметы в университете?
– Мой любимый курс за все три с половиной года обучения «Физика сплошных сред» (ФСС). Помню, как на первой вводной лекции по физике плазмы нам сказали, что физика плазмы основывается на ФСС. Да, этот предмет мне необходим по специальности, он важен, но полюбил я его за удивительную структуру и ясность преподавания. Лекции нам читал кандидат физико-математических наук А.А. Шошин, а семинары вел доктор физико-математических наук К.В. Лотов. Сплошная красота и простота, и это так меня поразило, что до сих пор этот предмет у меня любимый.
– Ты знал, что хочешь заниматься физикой плазмы со школы. А потом, когда уже попал в университет, устроился в ИЯФ, интересовался ли другими направлениями? Не хотелось поменять научное направление?
– С течением времени я начал понимать, что, если меня что-то впечатлило в 13 лет, это совсем не означает, что нужно слепо и бездумно придерживаться выбранной траектории. Поэтому, конечно, я смотрел по сторонам, на другую физику – на полупроводники, немного на теплофизику, примерял эти тематики на себя. Но, в конце концов, принял то же самое решение, что и в детстве, когда идея заняться физикой плазмы была еще только мечтой.
– В 2024 г. ты получил стипендию им. Г. И. Димова ИЯФ СО РАН. Расскажи, пожалуйста, в какой научной работе ты сейчас принимаешь участие, о каких интересных результатах можешь рассказать?
– Сейчас моя деятельность сугубо теоретическая – я моделирую процесс подпитки плазмы веществом для установки типа ГДМЛ (Газодинамическая магнитная ловушка).
Чтобы паровой двигатель в паровозе работал, в него надо постоянно закидывать уголь. Такая же история и с термоядерным реактором – чтобы он работал, в него нужно запускать газ. Вот этот процесс я и изучаю на самом низком уровне. Это необходимо нам, чтобы понимать, насколько эффективно работает система подпитки и по каким механизмам. Для этого нужно уметь моделировать все элементарные процессы, которые приводят к превращению молекул водорода в ионы плазмы. Исполюзуется метод Монте-Карло: я прослеживаю судьбу многих отдельных частиц, набирую статистику, чтобы говорить о каких-то средних интегральных параметрах и общих закономерностях. По сути я создаю программное обеспечение, которое считает, эффективно ли идет подпитка плазмы.
Актуальность работы, которую я, разумеется, делаю не один, а со своим научным руководителем кандидатом физико-математических наук С. В. Полосаткиным, состоит в том, что в настоящее время каких-то открытых и доступных кодов, способных просчитывать детали нужного нам процесса, нет.
Насколько я понимаю, наша программа будет универсальна, и сможет просчитывать процесс подпитки плазмы не только в ГДМЛ, но в любой открытой ловушке.
– Никита, и все же, почему физика плазмы?
– Меня очень привлекает идея, что мы можем научиться добывать и коммерчески использовать замечательный, практически неиссякаемый источник энергии. Вот мы что-то сделали, и всем стало хорошо жить – этот посыл мне тоже нравится.
– Даже если это произойдет не совсем скоро?
– У скептиков много шуток про УТС. Например, что физики каждые 20 лет говорят, что им нужно еще 20 лет, чтобы прийти к термояду. Работать в этом направлении стоит хотя бы для того, чтобы все эти скептики дошутились наконец.
Недавно я услышал очень интересное мнение по поводу технического прогресса. Первый компьютер был довольно глупеньким, он мало что умел, но тем не менее свои не очень бытовые задачи решал с каждым поколением всё лучше и лучше. Если построить график роста, например, числа транзисторов на плате, будет видно, как эволюция сделала из компьютера машину, эффективность которой позволяет применять его в бытовых целях, то есть сделала его коммерчески выгодным. Так вот, если мы построим похожий график для любого принципиально важного для УТС параметра, то увидим, что темпы имеют тот же характер.
Наверное, к первому компьютеру тоже были вопросы: а что это у вас ничего не работает? Просто нужно было вывести устройство на необходимый для коммерческого использования уровень. И с УТС положение примерно такое же – дайте нам развиться до большой победы. Просто так получилось, что у компьютера и микропроцессора это заняло 50 лет, а для термоядерного реактора требуется 100.
– Мечтать заниматься наукой и заниматься ей – есть ли разница? Нравится ли тебе ей заниматься все так же сильно, как и раньше?
– Да, мне все это до сих пор сильно нравится. Но когда я наукой еще не занимался, мне отец про нее рассказывал. Сейчас он у меня занимается программированием, но раньше работал в Вычислительном центре СО РАН. Папа всегда говорил, что в науке надо шевелиться. Если все пустить на самотек, ничего не сделается, и результатов никаких не будет. Причем просто работать – мало, надо своевременно делиться результатами, публиковаться, заявлять о себе научному сообществу. Только в этом случае рабочий процесс будет идти правильно. Вот это первое и главное, что папа про науку рассказал.
Какое-то понимание и отношение к научной деятельности сформировали преподаватели ФМШ, потом НГУ. Каким образом они влияли, сложно описать словами. Через свой опыт, рассказы, иногда неформальное общение.
Что касается несоответствий того, что у меня было в голове, и что оказалось в реальности – я считал, что все уже придумали, что осталось только самое сложное, но близкое к завершению. Когда я пришел в науку, то понял, что не все еще придумали. Так что работа есть, и ее хватит надолго, и это хорошо.
– Есть ли у тебя кумиры среди ученых или просто люди не из науки, которые нравятся тебе своим отношением к миру, мировоззрением?
– У меня есть любимый писатель – Иван Ефремов. Его книги: «Туманность Андромеды», «Час Быка», «На краю Ойкумены», прочитанные в детстве, во многом сформировали мои взгляды на жизнь, на человека и его деятельность. Кстати, он не только писатель, но еще и ученый – геолог, палеонтолог.
– Как ты думаешь, что отличает ученого от человека любой другой профессии?
– Мне кажется, ученого отличает потребность и способность задавать необычные вопросы, искать и видеть во всем структуру.
– Какого научного открытия ждешь лично ты, на какой вопрос хотел бы получить ответ?
– Сложно ответить на такой вопрос, потому что все интересно. Межзвездные перелеты, победа над старением. Фундаментальная наука мне нравится тем, что никогда не знаешь, что будет открыто. Бывают сюрпризы. Если честно, я чему угодно буду рад.
Подготовила Татьяна Морозова
